|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
||||||||||||||||||
«Мне особенно нравились папины выступления о Москве. Фактически он никогда не делал двух одинаковых лекций, пусть даже на одну тему. Очень точно чувствовал аудиторию и моментально выбирал из своего богатейшего материала то, что данным конкретным людям было особенно интересно. Например, рассказывал им о том месте Москвы, где они работают и живут. Об истории названий в округе. О той социальной прослойке, к которой эти люди относились. Ткачи? Пожалуйста, вот вам знаменитая легенда о московских ткачах. Рабочие автомобильного завода? И это есть. А еще лучше - поговорим о прежнем московском транспорте, до изобретения автомобиля. И сыпались из его уст, как из настоящего рога изобилия, новые и новые легенды. Люди слушали жадно, с интересом и восторгом. Вдруг понятными становились названия, к которым давно привыкли и едва замечали. Оказывается, за простеньким топонимом стоял важный исторический кусок московской жизни. Слушатели подолгу не отпускали папу, просили обязательно приехать еще, сыпали вопросами о других городах, о пригородах Москвы.
В нашем доме появились деньги за лекции. Мама смогла купить шерстяной кашемир и пошить нам с Леной хорошие школьные формы - впервые за шесть-семь лет школьной учебы! Какое это было неслыханное счастье - прийти в школу в нормальной одежде, сытыми и... почти не хуже других! После долгих лет голодного существования на грани полной нищеты мы, наконец, чуть-чуть приблизились к жизни средней. Слова "папина лекция" у нас дома произносились почти благоговейно: в них таилось спасение от голода.
Новый 1953-й год мы готовились встретить полным столом и хорошим настроением.
Как сейчас, вижу этот день. 31 декабря 1952 года. В доме суета и бесчисленное множество дел. До праздника еще часов четырнадцать, но сколько всего надо успеть!
Близнецы Изя и Леня только что вернулись из овощного магазина, принесли большой кочан капусты, кило три свеклы, морковь, картошку, все самое тяжелое по весу и самое нужное. Вижу, как Леня освобождает сумки, переваливая овощи в большой ящик, а Изя отчитывается перед мамой. Наши десятилетние мужички - главные "поставщики овощей".
Да и с любой работой они справятся, приучены к ней чуть ли не с детского сада. Мама дает им новое поручение, и они скрываются за дверью.
А дома продолжается дым коромыслом. У каждого свое дело. Мама торопит, быстрее, времени до праздника остается совсем мало. Мое задание - отдраить пол в большой комнате. И я стараюсь изо всех сил. Отмываю его теплой водой, самые грязные места - пятна, какие-то нашлепки - отскребаю ножичком. Под моими руками пол становится светлым, чистым и благоуханным. Интересно!.. В отчищенных -отскребленных пятачках паркета я с любопытством читаю, каким был наш дом до войны.
Мама суетится на кухне, что-то готовит. Лена пристроилась рядом чистить картошку - на нашу семейку из одиннадцати человек ее нужно чуть ли не ведро. Десятилитровая кастрюля, куда она складывает белые картофелины, уже почти полная. А мама поставила на плиту другую десятилитровую кастрюлю, похуже и "постарше", мы всегда варим в ней суп. Мама делает борщ! Не частое и любимое блюдо. Никому из нас и в голову не пришло бы уточнить, что на праздничном Новогоднем столе супу вроде бы не место, должно быть много закусок и хорошее горячее блюдо - такова старая традиция. Мы рады любой вкусной еде, а уж борщу - тем более. Мама готовит его отменно!
Может быть, и нелепо: жизнь в стране идет по каким-то чудовищным законам, борьба с "безродными космополитами" обострилась до предела. Вообще само существование любого человека - под вопросом. А мы готовимся к встрече Нового года! Мы переполнены этими радостными ощущениями. Настолько, что забыли и папину привычную нервозность, полные страха предупреждения. Все то, чем полнилась ежедневная обыденность.
Мы счастливы. Мы рады. Новый год уже почти у порога. Он сметет прежние неудачи и горечь. Все останется в старом году. Да здравствует Новое Счастье! Наивно? С другой стороны - что есть сильнее великой человеческой тяги к счастью? Особенно - детской.
Но жизнь уже очень торопилась внести свои коррективы, образумить нашу новогоднюю радость.
Почти шесть часов. Мама не сердито пошумливает на нас - дел пока еще много. И тут телефонный звонок. Их было сегодня уже несколько, в основном от родственников и знакомых. С каждым мама и папа говорили по очереди, всех поздравляли. Мы очень любим такие звонки. Бывают сюрпризы: вдруг вспомнят нас люди, с которыми годами не встречались. Да и мы сами можем поздравить кого-то неожиданного. С Новым годом! С новым счастьем! Сыплются пожелания, одно лучше другого.
- Але! Да, я слушаю! Кого? Семена Исааковича? Пожалуйста! . Мама отводит трубку от уха и кричит в глубину квартиры:
- Сема! К телефону!
Папа торопливо вбегает в комнату. Чуть-чуть запыхался. В лице оживление и взволнованность. Кто звонит? Земляк? Или родственник? Или вспомнили на какой-то фабрике, где читал лекции?
- Але! Да, да, я. Слушаю!
По тому, как вытянулось его лицо, мы догадались: звонит кто-то важный. Вот папа кивает, поддакивает. И вдруг кошмарно бледнеет. В одну секунду! Что случилось?
- Как это так?! - кричит он в трубку. - За что? Что я сделал? Я честный человек, это вам подтвердит любой, кто меня знает! Честный! Слышите?
Я помню, как все мы моментально застыли, каждый за своим делом. Как тревожно посмотрели на папу. Что произошло?
И вот он кладет трубку. И взрывается у телефона:
- Я им докажу, что не мошенник! Маруся, подумай только! Они решили написать фельетон! На меня! Как на мошенника! Нариньяни звонил, известнейший фельетонист! Боже мой, боже мой!.. Мы пойдем в "Правду" всей семьей! Я возьму рабочие материалы! Пусть он сам посмотрит, на кого поднимает руку!
Папа выбежал в коридор, на него страшно было смотреть. Пожалуй, мы, дети, не очень поняли, что произошло, просто потому, что не знали, какой это позор - фельетон в самой главной газете. Но и без всякого знания понимали: случилось что-то ужасное.
- Вот она, моя очередь! - кричал папа. - Я же давно говорил: они до всех доберутся.
- Но что он может написать? - недоумевала мама. - Мы соберем все отзывы о лекциях. Да за тебя каждый скажет только хорошее!
- Ты ничего не понимаешь! Это же... это...
Оставшиеся до праздника часы прошли уныло и молча, хотя мы продолжали готовиться и делали все нужное по инерции. За столом в общей сложности просидели полчаса, не больше. Потом мама велела мыть посуду и укладываться, а сама села за машинку. Папа что-то бурно диктовал ей. По квартире неслись знакомые и очень понятные слова - о том, какие добросовестные и интересные папины лекции. Весь день первого января он доставал из глубин шкафов разные бумаги, рукописи, папки, иные уже пожелтели. Отбирал все нужное и укладывал в огромный чемодан. Мы, дети, провели этот день в тревожном ожидании.
Среди прочих мне особенно запомнилось острейшее чувство неловкости. Мы ведь и раньше ходили в присутственные места всей семьей.
В основном - когда хлопотали за отселение Михальской. Помню, как кричал в этих учреждениях папа. Как воевала мама. Мы стеснялись и смущались. А это была борьба за нас, иногда не на жизнь, а на смерть. Побеждали... Была у наших родителей, особенно если шли вместе, несокрушимая сила. И в ее ауре мы себя чувствовали защищенными.
В газету "Правда" мы отправились все вместе второго января нового 1953 года. Впереди папа и мама. И два толстенных чемодана рукописей - один несет папа, другой Витя. У мамы на плечах тоже рюкзак рукописей. У нас с Леной - большие сумки: папина работа. А дальше все остальные, до двухлетней Олечки, которую одиннадцатилетний Вова несет на руках.
Помню ощущение священного трепета, когда мы подходим к редакции. Огромное, величественное здание. Самая главная наша газета. "Правда"... Одно слово чего стоит! Газета товарища Сталина! Нет, нет, нас здесь обидеть не могут. Недоразумение с фельетоном обязательно прояснится.
Папа в это свято верит. Бодро напевает одну из своих тыри-рик. И вдруг сникает. Ему очень плохо. Пытается кричать что-то прямо на улице. И мы в ужасе шестым чувством догадываемся: это от бессилия! Но вот он совладал с собой. Решительно открывает дверь редакции. Здесь разберутся!
Он назвал фамилию, и нас пропустили к лифту, не возразив против такого "нашествия". Поднялись на какой-то этаж. Кабинет Нариньяни там-то и там-то. Папа успокаивается. Он уверен: вот сейчас Нариньяни увидит его семью, его труды и поймет, как жестоко ошибался. Разве на таких людей пишут фельетоны-наказания!
Помню "предбанник" кабинета, в нем полумрак. То ли лампочка слабая, то ли свет поглощали деревянные панели, которыми "обшиты" стены. Крошечный закуток, не рассчитанный на столько гостей!
Нариньяни появился неожиданно, со стороны коридора. В первую секунду мы почти шарахнулись. К нам приближался маленький, горбатенький, очень худой, черный, сморщенный на вид человечек, похожий на злого гнома из сказки. Шагал он, однако, решительно, с видом важного начальника. Спросил папу. "Такой-то?" По фамилии, без имени-отчества, без принятого тогда слова "товарищ". Кивнул. "Проходите". Папины чемоданы рукописей и рюкзак окинул презрительно. На детей взглянул лишь мельком. На секунду остановился. От нас не укрылось его легкое замешательство. Не ожидал такой армии? Или в ту секунду его особенно остро кольнуло горькое ощущение никчемности собственной жизни? Мне показалось: он наверняка одинок, во всяком случае - вряд ли кем-то любим. Несчастлив, какие бы остроумные и язвительные фельетоны ни писал. А тут здоровая, многодетная семья, пышущая жизнелюбием, полная сил женщина... И все это принадлежит маленькому жиденку? Нет! Уничтожить!!!
Мы сразу двинулись в кабинет - все. Но хозяин жестом злого мага резко остановил нас: "Только отец и мать!" Они прошли вперед с обоими чемоданами и рюкзаком. Сумки с рукописями, которые несли мы с Леной, остались у нас в руках. Папа метнулся было за ними, но только сказал. "Потом!" И массивная двустворчатая дверь медленно закрылась. А мы сгрудились в тесном и темном предбанничке. И стали ждать. Ни много ни мало - своей судьбы...
Из-за толстенных дверей и стен кабинета Нариньяни что-то было слышно. Видимо, папа раскрыл чемоданы, разложил рукописи. Хотелось подставить ухо к двери, но по коридору сновали важные личности, и мы не решились подслушивать. Доносился папин возбужденный голос - он что-то доказывал? А Нариньяни? Нам показалось, он стоит и злобно, без единого слова наблюдает - экий бесплатный спектакль! Зловеще молчит. И означать это могло только одно, мол, ты хоть петухом запой, хоть самим Пушкиным окажись, а коль скоро выпал черед расправы с тобой, расправа и будет...
Неужели он ни на секунду не усомнился в том, имеет ли право казнить нашего отца и обрекать на голодную смерть такую огромную семью? Не знаю... Думаю, что в те минуты ему, неглупому человеку, имевшему, как я потом узнала, репутацию хорошего фельетониста, прекрасно понимавшему, что творится в стране, ибо он работал заведующим фельетонным отделом "Правды", то есть одним из палачей эпохи, все было понятно. Он не мог не знать, что перед ним честный и много работающий человек, на котором нет никаких грехов. Разве, может быть, одного, - он не воспевал действительность в своих трудах. Впрочем! главным был другой грех: жертва будущего фельетона - еврей...
Нариньяни был беспощаден и сказал папе, что фельетон будет опубликован, сколько бы рукописей тот ни принес, а пригласил он его в "Правду" с единственной целью: предупредить. Мы, мол, Страна Советов, самая демократическая держава в мире, потому у нас действует гуманнейший закон: если намечено написать на кого-то критический материал, тем более фельетон, да еще в самой главной газете страны, рупоре советской демократии, этого человека должны заранее поставить в известность.
Из здания редакции мы вышли побитые, уничтоженные. Домой ехали молча. Едва закрыв дверь квартиры, папа стал кричать. Говорил, что его жизнь кончена, фельетон это казнь. Мы в ужасе жались по углам, понимая, наконец, что папа ничего не преувеличивает, и наша жизнь зашла в тупик. Даже мама, всегда умевшая его успокоить, сейчас растерялась. Однако потом она долго сидела за машинкой, что-то печатала под папину взволнованную диктовку, а мы в ужасе шептались по углам, но прислушивались к папиному голосу, цепляясь за крохи надежды.
С этого дня вся наша жизнь превратилась в мучительное ожидание. Каждый день мы с трепетом разворачивали газету "Правда", в ужасе ждали, что же напишет про папу Нариньяни. Были и всякие сопутствующие чувства. Конечно, надежда: а вдруг пронесет и Нариньяни одумался? Наш визит убедил его? Возникали и иные состояния, скорей бы уж... Так человек перед опасной операцией, боясь даже самого худшего, все-таки говорит себе: скорей бы уж! Потому, что ожидание подчас страшнее события.
11 января 1953 года был опубликован фельетон прославленного журналиста Семена Нариньяни, называвшийся "За спиной у ведущих". Кроме папы, фельетонист раскритиковал там в пух и прах еще двух литераторов - В.Ардова и А.Филатова, вскользь упомянув и десяток других, столь же "мало-великих" и "бесталанных", которые умудряются за спиной у ведущих писателей читать народу халтурные лекции, стихи и анекдоты. Пока ведущие сотворяют монументальные произведения, воспевающие нашу потрясающую действительность, всякая мелкая шушера гребет деньгу. И какую! В фельетоне приводились цифры. Правда, только на нашего отца. Приводились и "прямые свидетельские показания", доказательства такого хапужничества и халтуры. В основном - работниц ткацко-отделочной фабрики.
Я хорошо помню то утро. Кого-то из нас, чем свет послали посмотреть в почтовом ящике. Есть! Папа лихорадочно развернул газету. Фельетон нашел сразу. Не прочел - проглотил. И тут же, выскребая мелочь из всех карманов, послал нас купить как можно больше экземпляров газеты. Сказал, что ему это нужно для работы. Магическое слово! И все же идти было боязно, стыдно. Кто-то пробовал возразить. Отец накричал на нас - как мы можем не понимать столь важного задания! А мы не не понимали - мы боялись высунуть нос на улицу. Помню, как я спустилась по лестнице, точно воровка, вылезшая из чужой квартиры, крадучись, оглядываясь, вздрагивая от каждого шага по родной лестнице, которая тысячи раз была исхожена и избегана до последней ступеньки. К счастью, мне никто не попался. Но если бы завидела чью-то фигуру, я бы в смертельном ужасе бросилась наверх, наверх, скорее домой, лицом в подушку, чтобы ничего не видеть, ничего не слышать, скрыться, замкнуться, уйти, уйти, уйти от этого позора...
Мы купили экземпляров десять газеты. Принесли. Еще с пятого этажа услышали папин голос, полный возмущения и отчаяния:
- Маруся, ты только подумай! Я же никогда на ткацко-отделочной фабрике не выступал! Какой мерзавец! Это ложь, клевета! Кровавый навет'
Мама стояла посреди комнаты, с экземпляром "Правды" в руках, бледная, осунувшаяся. Что-то говорила папе. Она была в своем амплуа: прежде всего, успокоить его, а остальное потом, потом...
- Если никто не показывал ему моих работ, откуда он знает, что они плохие? - негодовал папа. - И если у меня нет опубликованных книг, как же меня приняли в Союз писателей? Маруся!.. Маруся, это же палач!
Теперь уже слышны были мамины четкие и совершенно конкретные слова:
- Семочка, успокойся! Сначала успокойся! Наша борьба только начинается!
- А деньги! - не унимался папа. - Ты посмотри, что сделал этот негодяй' Откуда такие цифры? Я понял! Он взял все мои лекционные выступления с самого начала, за несколько лет, а заработок приписал одному году. Вот, что произошло!
В фельетоне автор ругательски ругал все Бюро пропаганды и его директора. Мол, зачем они дают так много выступлений мелкой шушере, а замечательные ведущие лекций читают мало.
- Разве я навязывал кому-нибудь свои выступления! - неистовствовал папа. - Меня же просили читать еще, еще. Люди встречали овациями. А здесь ложь! Каждое слово - клевета! Это кровавый антисемитский навет!
- Семочка, успокойся...
- И смотри, как хитро сделал! Он берет еще фамилию Ардов. Вроде бы "совсем не еврей", хотя Ардов - еврей, и талантливый, замечательный юморист. Но его национальность прикрыта спасительным окончанием "-ов". И - Филатов! Попробуй придерись! Двойная ложь! Маруся, пойми: это очередная антисемитская расправа. Бедная, бедная моя семья, что же будет дальше!
...Предо мной сейчас, в 1995 году, лежит ветхая газета "Правда" от 11 января 1953 года. Я читаю фельетон сегодня. Примитивнейшее произведение журналиста Нариньяни. Написано так простецки и неинтересно, так заданно и тенденциозно, что студенту первого курса журфака поставили бы за него три с минусом и попросили бы отчислиться.
Папина оценка фельетона была совершенно объективной и точной, до единого слова. Заказное убийство пулей несколько замедленного действия.
Я просматриваю все страницы газеты от 11 января. Читаю передовицу, названную с задором и весом: "Смело и решительно вскрывать и устранять недостатки". В ней говорится о "подлинно партийном стремлении" вскрывать, критиковать, искоренять. В газете каждая страница залита приторным елеем восторга перед "великими достижениями" великой державы Советский Союз. "Отдельные недостатки" - это родимые пятна на нашей замечательной жизни, их надо сводить. И уничтожать.
История уже расставила свои акценты. Давно документально доказано, что большинство "ведущих" были отчаянными приспособленцами и великими вралями, а весь наш социалистический реализм, воспетый их перьями методом социалистического же реализма, был не чем иным, как величайшим лицемерием, какое знало человечество.
Что тут добавишь!
Пожалуй, лишь штришок из личного архива души и памяти.
Мама много раз рассказывала нам, как в татарском городе Чистополе, куда приехала из Москвы в эвакуацию целая писательская колония, Фадеев ругательски ругал и "искоренял" писателя Пастернака, который занимается не воспеванием величайших свершений и побед нашей державы, а всякой "мурой", как то: природа, любовь, буржуазные недостатки человеческих отношений...
"Если героев нет, их делают". Кто не знает этого принципа нашей недавней жизни! Точно так же "делали" и врагов, еще круче и успешнее. История моего отца и нашей семьи - лишь песчинка в горах песка того времени.
И вот какой вопрос возникает сам собой.
Если мы и тысячи, сотни тысяч, миллионы людей попали под колесо истории, то вроде бы и прославленный фельетонист такая же жертва. Палач тоже может быть фигурой трагической! Не берусь судить однозначно и безапелляционно, выскажу лишь некоторые свои соображения. На мой взгляд, он не был такой безусловной жертвой времени. Этот фельетон на нашего папу и других писателей, которые никак не были халтурщиками и хапугами, весь пронизан личным пафосом автора.
Личным интересом! Будто уничтожить людей для него - важнейшее свое дело и огромное удовольствие. Он сознательно и однозначно убивал нашего отца. И столь же спокойно гнал нас, детей, на голодную смерть. Даже если не мог отказаться от задания начальства, он как журналист при желании сумел бы найти десятки возможностей написать иначе. Хотя бы не выпячивать какие-то особые недостатки нашего отца. Он мог бы даже "подстелить соломки", чтобы, споткнувшись об этот фельетон, отец все-таки хоть чуть-чуть остался на плаву, продолжал работать и кормить свою огромную семью.
А через день после "нашего" фельетона были опубликованы материалы о печально известном "деле врачей-отравителей". Об этом уже очень много написано, вряд ли я могу что-то добавить. Разве что - снова штришок из личных воспоминаний.
Я помню, как папа, прочитав "новость о врачах" в "Правде", смертельно побледнел и поскорее опустился на стул. В комнате стало тихо. Потом папа снова прочитал опубликованное. Губы его что-то шептали, но мы не могли разобрать слов. И вдруг расслышали:
- Так вот, что имел в виду Нариньяни! Он же еще второго января говорил мне: "Вы не писатель - вы врач". Я никак не мог понять смысла этих слов. Теперь все ясно!
Если до публикации статьи о "врачах-вредителях" антисемитизм махрово расцветал в стране, в Москве, то теперь он пошел широким трибунным шагом. Страшно стало даже появляться на улице - могли ни за что избить, кинуть камень, а уж о том, чтобы сказать тебе в лицо, иногда, правда уже в более поздние годы, мне это приходилось слышать от некоторых знакомых "жидовская морда", - и говорить не приходится - это можно было слышать и сто раз в день.
Папа каждый час ждал, что за ним придут. Мы вздрагивали от любого стука в дверь. Это состояние можно было уподобить ожиданию своего конца.
Папа все время повторял, что геноцид еврейского народа начался. "Нас всех выселят! - слышали мы и раньше и теперь. - Вы дети и не понимаете, что происходит. Нам уготован Дальний Восток!"
Человек так уж устроен, что даже в самых жутких ситуациях не сразу теряет надежду. Как я помню важнейшую и сильнейшую нашу надежду тех дней! Сталин!.. Наш мудрый вождь Иосиф Виссарионович Сталин!.. Бог и спаситель. Сталин думает о нас... Или за нас? Как это было в известном стихотворении? Неважно! Он поможет. Он защитит. Сидит в Кремле, курит свою замечательную трубку и мудро думает о нас. Ах, какое это блаженное ощущение - тебя защитят, до самого страшного не допустят! Вот только сесть и написать письмо любимому Сталину, а дальше все сразу наладится!
Как можно было оставаться такими головотяпыми? Но если всю жизнь тебе изо дня в день талдычат, что несправедливость, жестокость, все мерзости жизни лишь случайность и происки врагов, а мудрейший, чудесный товарищ Сталин все это из нашей жизни уберет, - тут поневоле начинали верить, что - да, так оно и будет. Ведь и капля камень долбит...
Мы росли идеалистами. Теперь известно: даже многие из тех, кто провел годы и годы в лагерях ГУЛАГа, не всегда прозревали, продолжали верить в "отца и учителя", в правдивость и правильность всего, что происходит вокруг. Что же говорить о нас, детях! Огромное количество "представителей молодого поколения" росло в охмуренном состоянии, в счастии глупого идеализма, в глупой же вере, что утро красит нежным светом стены древнего Кремля, и там, в Кремле, - источник нашего счастья. Сталин думает за нас!..
Разменивались дни. Кончался январь. За ним пришел февраль. Жизнь оставалась страшной, но самого ужасного, чего мы ждали двадцать четыре часа в сутки, не происходило. Почему? Были какие-то объективные причины.
И пришел великий день 5 марта 1953 года, который остановил гулявшую по народной жизни метлу смерти. Мы горько оплакивали кончину "вождя и учителя", не понимая, что именно она обозначила наше спасение.
- Вы-то-что! Фельетон? И только? -
Наказание фельетоном в те годы... Насколько оно было страшным? Мы не погибли. Мы выжили. Действительно, невозможно сравнить нашу судьбу с тысячами и тысячами других, куда более трагичных жизней.
И все же - нас спасла только случайность. Те изменения, которые последовали сразу за смертью Сталина.
Теперь достоверно известно, что наш папа не ошибался в своих чудовищных предсказаниях относительно судьбы евреев как народа.
Я не думаю, что он знал что-то конкретное, - откуда? Просто понял, что происходит. Сопоставил с прошлым. Проникся логикой зверских действий одного из самых злобных чудовищ от человечества. И поэтому в результате публикации клеветнического фельетона, где четко было обозначено, что такому еврею, как наш отец, а, следовательно, и всем его потомкам не место в замечательнейшем государстве под именем Страна Советов, мы неизбежно должны были погибнуть. Вмешалась рука Судьбы. Мы остались живы.
На глаза мне попалась "Декларация против расизма", принятая в январе 90-го года на заседании прогрессивного, антикоммунистического и антирасистского движения "Апрель", в которой уже тогда ставился вопрос о возможности возрождения фашизма, государственного или одобренного государством повсеместного антисемитизма.
В "Декларации" говорится о том, что в годы войны мы увидели истинное лицо расизма, немецкого фашизма, а после нее - расизма своего, доморощенного. Перечисляются методы истребления ни в чем не повинных представителей еврейского народа: "Убийство великого еврейского актера Михоэлса, разгром так называемых космополитов в 1949 году, дело "врачей-отравителей" в 1953 году, чудовищные антисемитские фельетоны в газетах...
" Клеветнические фельетоны-наветы были жесточайшим оружием сталинизма, имевшим ту же цель, что и прямое уничтожение "лиц еврейской национальности" в системе ГУЛАГа. Наша семья познала это на своей судьбе. Видимо, в фашистской канцелярии на родной земле все было четко распределено: кому, какие формы ада. Нам досталась вот такая: погибать медленно и верно, в голоде и унижениях, растоптанными и уничтоженными. То, что мы все-таки не погибли, чистая случайность.
Но вернемся еще раз непосредственно к дню 11 января 53-го года и к тому, как мы жили дальше, как выживали.
Мама не разрешила нам остаться дома, и мы пошли на занятия. Обычно ходили в школу поодиночке, самое большее по двое, а если случалось выйти нескольким вместе, то вскоре расходились-разбредались, встречая на пути своих одноклассников. В тот день мы расходиться не решились, боясь каждый остаться наедине с одноклассниками, очень остро ощущая, что сейчас начнут дразнить и травить.
В школе меня встретили сдержанным молчанием. По глазам девчонок было ясно, что все всё знают. Может быть, наш "классрук" Алла Даниловна "провела работу": поговорила с классом до моего прихода и велела помалкивать?
Во всяком случае, долго никто не говорил со мной о фельетоне, о нашем позоре - ни в тот день, ни в ближайшие за ним. Но жили мы в страхе и постоянном ожидании удара. Стоило обернуться на шепот, и девчонки умолкали, но десятки злорадствующих глаз и ядовитых усмешек впивались в меня.
Помню, как страшно было в тот день вернуться домой! Едва кто-то из нас входил в квартиру, на него сразу устремлялись несколько вопросительных взоров: тебе что-нибудь говорили? Мучил страх за папу: переживет ли такой позор? Он держался. Это потом пришли воистину черные дни, когда он перестал выходить из дому, спать, читать. Значительную часть времени просто лежал в тяжелейшей депрессии. Фельетон, всемирный позор, гражданская казнь, если не убил его физически, то истреблял морально, психологически, психически.
Какое-то время в доме еще были деньги на жизнь. Потом они кончились, и единственным заработком осталась стипендия старшего брата. Он отдавал ее всю до копейки, сам голодал.
Но что такое для семьи в одиннадцать человек одна студенческая стипендия в месяц! Правда, мы еще могли одалживать деньги, потому что благодаря папиным заработкам отдали прежние долги. И дело тут даже не в кредите доверия: никто и раньше не подозревал нас в нечестности, не упрекал за неаккуратность. Мы сами не могли брать в долг, если у этого человека уже много раз занимали. Теперь очень быстро снова возникли возвращенные долги. Время шло, и каждый день надо было хоть картошкой и хлебом накормить нашу огромную семью.
Я помню, как мы жили в те дни! Каждое утро мама начинала с тягостных размышлений о том, к кому бы еще обратиться за деньгами. Потом она долго звонила по телефону. Одних не было дома, другие говорили, что сами в долгах. Она звонила даже тем, кому никогда бы звонить не стала! Страх за голодную жизнь детей был у мамы сильнее страха перед унижением. И она звонила, звонила... Или пускалась в обход лестницы, стучала всем, с кем у нас существовали хоть какие-то соседские отношения. Иногда возвращалась счастливая, есть! Одолженных рублей едва хватало на хлеб.
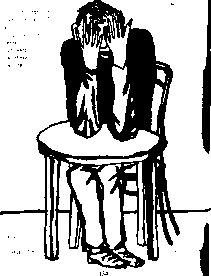
Несмотря на горчайшие унижения, папа все-таки обращался в Бюро пропаганды. Просил дать ему возможность выступать. Где угодно, он готов хоть пешком идти на край света. Объяснял: семья осталась без средств, у него маленькие дети. Напоминал, что выступления всегда были хорошими, отзывы - только положительными, и новыми лекциями, если только дадут их, он докажет, что людям они нравятся. Женщины, работавшие в Бюро, и директор, еще недавно очень благоволившие к папе и всякий раз с удовольствием отмечавшие, что все время приходят положительные отзывы на его выступления и заказы на новые, теперь говорили резко. О том, что никаких лекций ему больше давать не собираются, ибо он "опозорил всех". Я помню, как мама кричала в телефонную трубку, что им лучше других известно, как замечательно он всегда выступал и что каждое слово в фельетоне Нариньяни ложь. Но, видимо, дамы возражали, потому, что мама очень нервничала. Если папа слышал эти разговоры, он начинал требовать, чтобы она положила трубку, кричал: "Они сволочи, если поверили в клевету Нариньяни". Все пути заработка этот фельетон перекрыл папе однозначно и бесповоротно.
Несмотря на горчайшие унижения, папа все-таки обращался в Бюро пропаганды. Просил дать ему возможность выступать. Где угодно, он готов хоть пешком идти на край света. Объяснял: семья осталась без средств, у него маленькие дети. Напоминал, что выступления всегда были хорошими, отзывы - только положительными, и новыми лекциями, если только дадут их, он докажет, что людям они нравятся. Женщины, работавшие в Бюро, и директор, еще недавно очень благоволившие к папе и всякий раз с удовольствием отмечавшие, что все время приходят положительные отзывы на его выступления и заказы на новые, теперь говорили резко. О том, что никаких лекций ему больше давать не собираются, ибо он "опозорил всех". Я помню, как мама кричала в телефонную трубку, что им лучше других известно, как замечательно он всегда выступал и что каждое слово в фельетоне Нариньяни ложь. Но, видимо, дамы возражали, потому, что мама очень нервничала. Если папа слышал эти разговоры, он начинал требовать, чтобы она положила трубку, кричал: "Они сволочи, если поверили в клевету Нариньяни". Все пути заработка этот фельетон перекрыл папе однозначно и бесповоротно.
Несколько раз его вызывали в Союз писателей. Он понимал, что ничего хорошего там не будет, но шел, иначе его бы сразу исключили из Союза. Нам, детям, он ничего не рассказывал, но возвращался оттуда почерневшим.Несколько раз его вызывали в Союз писателей. Он понимал, что ничего хорошего там не будет, но шел, иначе его бы сразу исключили из Союза. Нам, детям, он ничего не рассказывал, но возвращался оттуда почерневшим.
По отдельным фразам, по телефонным разговорам, по отчаянию в лице мы догадывались: ему устроили настоящее судилище. Позже он рассказывал, что эти заседания парткома и секретариата были сущим адом. Особенно свирепствовал один гаденький человек, к сожалению еврей. "Азеф! Настоящий Азеф'" - говорил папа дома. Но иногда пытался его оправдать: мол, если бы он не усердствовал, его бы самого уничтожили. В наших глазах это не было серьезным оправданием. Наоборот. Ведь предательство своих, куда хуже и больнее, чем чье угодно другое. Думаю, отца спасли от исключения из Союза и полной анафемы все те же события пятого марта 1953 года.
Итак, все возможности заработать оказались для него полностью перекрыты. Что было делать? Куда податься? В преподаватели? Его, опозоренного в фельетоне, на пушечный выстрел не подпустили бы к такой работе. Сказали бы, что не имеет морального права чему бы то ни было учить юное поколение будущих строителей коммунизма. Писать внутренние рецензии, обычный заработок литератора? И эта дверь захлопнулась перед ним. Он же, по мнению хозяев жизни, абсолютно неблагонадежный человек!..
Как теперь больно вспоминать те унижения, безысходность и позор!
Чтобы хоть что-то принести в дом, он пошел в наш овощной магазин грузчиком. Но и это не вышло. Сначала над ним посмеялись: "Ты еще шляпу надень, тогда и приходи!" Все-таки он не ушел. Дали потаскать мешки с картошкой. "Эй, ты, жидок! Иди-ка сюда!" Любой забулдыга в магазине был ему не только начальником, но мог как угодно оскорбить. Захотел бы - и избил, чтобы очистить русскую нацию в лице работников магазина. А дал бы папа отпор, набросились бы всем скопом.
Кончилось это все, едва начавшись. Кто-то из продавцов вспомнил фельетон, узнал отца. Ему сразу вынесли вотум недоверия. Нариньяни же рассказал в фельетоне, что он мошенник, - как можно такому доверить картошку и капусту?
Измученным, истерзанным, оплеванным в который уже раз, вернулся отец в тот день домой. Я не знаю, чем бы все это кончилось, если бы не мама, не мы, семья, которую он очень любил. Теперь, наверное, трудно представить себе его состояние затравленное, почти полной невозможности выйти из дома. Сталинская "охота на ведьм", "врачей-отравителей" и прочих "врагов великого народа" выплеснулась на улицы, ворвалась в коллективы. От каждого "простого советского человека" требовалось внести в нее свою конкретную лепту...
А дома - голодные дети, которые иногда (это почти восемь лет спустя после войны!) за весь день съедали два кусочка черняшки...
Я помню и иные эпизоды тех далеких дней. Мама позвонила соседям из другого подъезда, почтенной супружеской чете. Не хочу тревожить их прах, потому назову лишь инициалами: он - П.Д., она - Е.Д., как и было в действительности. В молодости П. Д. работал журналистом, но, видимо, быстро исписался или потерял интерес к профессии, поэтому давно ничего не сочинял. Однако голодная смерть ему не грозила, семья была очень богатой. Е.Д., врач, много зарабатывала. Дом этот ломился добром, богатством и сытостью. В более спокойные времена П.Д. любил зайти к нам, поболтать с каждым, рассказать что-то из своего богатого прошлого. Е.Д. нас сторонилась.
Если мы спешили вовремя вернуть деньги - совсем немного, только на хлеб, больше они никогда нам не одалживали, - она очень радовалась и непременно замечала: "Вы хоть и бедные, но очень честные". Меня обижало это "хоть": наша честность выходила в ее "исполнении" случайной.
Теперь, после фельетона, все это осталось в прошлом. Когда, мама ни обращалась к П.Д. и Е.Д., они отказывали, сопровождая свои слова нытьем: нам и самим плохо. Но в мае 53-го года они уезжали на курорт, торопясь ловить нежаркое солнышко. И вот тут П. Д. сам предложил нам деньги! Попросил папу проводить его на вокзал, подтащить чемодан - за это он, мол, заплатит. И отец, взбодрившись - что-то принесет домой, детям' - поспешил с ним на вокзал, волок два тяжеленных чемодана, хотя сам был уже в годах и хорошим здоровьем не отличался.
И когда он благополучно втащил непосильную ношу в купе, хозяин чемоданов "щедро" расплатился, протянув ему... один рубль! Я помню, каким униженным, оплеванным чувствовал себя отец... А спустя какое-то время или, наоборот, чуть раньше позвонила Е.Д., спрашивала маму. Коротко сказала: "Есть работа, приходите!" И мама кинулась к ним... Оказалось, что нужно убрать квартиру и вымыть полы, их не мыли уже год. Мама, обошедшая в тот день лестницу еще с утра и не сумевшая одолжить даже трешки на хлеб, немедленно принялась за дела. Отсутствовала она несколько часов. А когда, уставшая и выдохшаяся, вернулась домой, в руках она держала две буханки хлеба, плату за свой труд. И, конечно, унижение - выше головы!
Я помню еще какие-то детали той жизни. Вот папа с мамой поехали к его старшей сестре, даме очень состоятельной, жене важного правительственного чиновника. Ну, конечно, рассуждали они, она поможет хоть раз накормить детей досыта. Вернулись они с ворохом старых, намертво пропахших потом рубах и платьев, которые отдали "деткам" на перешив вместо того, чтобы выбросить на помойку. И еще у мамы в руках был маленький сверток в белой бумаге. Развернули - там лежало несколько кусочков селедки, собранных со стола, за которым в тот день важно обедала семья...
Помню кое-что из "моральной поддержки", которую в те дни щедро оказывали папе, маме и всем нам эти же родственники, другие, кто-то из папиных друзей. По словам эта поддержка была разной, но суть одинаковой, и четче всего она выражалась в мнении папиного старшего племянника, чиновника присутственного места: "Правда" не может говорить неправду!" Папа часто повторял эти слова, возмущаясь, обижаясь, испытывая острейшее чувство стыда за то, что вдруг так низко пали некоторые родственники и друзья...
Помню я и такую тяжелую деталь тех дней: мы стали сдавать комнату командировочным Горьковского автозавода, у которого в одном из корпусов нашего дома была своя контора. Койка на ночь - рубль на стол. В комнате четыре койки. Недостатка в "клиентах" не было. Утром - четыре рубля на хлеб. А сами - одиннадцать человек! - теснились на оставшейся площади, спали вповалку, многие на полу, без белья, которое - его было очень мало! - стелили командировочным. Когда они утром уходили на работу, мы, щепетильничая, не смели войти в комнату и с трудом изыскивали место, чтобы сесть за уроки, часто тоже на полу. Длилось это не один день и месяц - может быть, несколько месяцев, даже год. И запомнилось навсегда как яркое свидетельство нашего тогдашнего постоянного и разнообразного унижения.
Голод и боль...Острая боль унижения.. Вот, наверное, два наших сильнейших чувства тех дней. И еще - ощущение абсолютной невозможности как-то защитить папу, себя, доказать, что мы ни перед кем не виноваты. Мне не забыть этого до последнего моего дыхания. Не уверена, что есть еще что-нибудь столь же горькое и мучительное, как полная невозможность доказать свою невиновность.
А потом пришли в нашу жизнь серебряные слоны. Пришли, не сами, их привела газета "Правда". На свою новогоднюю елку мы их не вешали. Какая елка! Надо было выжить и не умереть с голоду.
Наша квартира в те дни до последнего уголка заполнилась стойким рвотным запахом варящегося столярного клея. И мы сидели за столом, артель надомников, далеко и глубоко за спиной у ведущих, и склеивали две половинки слоников, две половинки счастья воедино. Оно трудно поддавалось нашим тонким детским пальцам, это счастье, слоники не склеивались или расклеивались, так и не соединившись своими половинками. И производительность труда была катастрофически низкой. Но никакой другой работы и источников добычи средств к существованию у нас в те дни не было, и мы клеили, клеили, клеили слонов, выскребая себя из лап голодной смерти. Папа обычно сидел с нами, но время от времени на него находили приступы отчаяния и депрессии, и тогда мы спешили как-то его отвлечь, успокоить. Потом он снова возвращался в нашу "артель", клеил и клеил неподдающихся обработке слонов. Одиннадцать пар рук мельтешили по серебряным спинкам и брюшкам слоников, и поспевали новые кастрюли столярного клея вместо кастрюль супа или вторых блюд.
Вот этот мой слоник, "выживший", точнее "доживший" до дня сегодняшнего, наверняка лепился долго. Кто его делал? Я? Что ж, мне было уже почти четырнадцать лет. Могла бы слепить поаккуратнее! Трудно?
Периметр слишком извилистый? Ножниц таких нет? У слоника широкая спина и большая попа, обрезать, пожалуй, можно было. Видно, времени не хватало. А "гофрированный" хобот не очень-то и обрежешь.
Впрочем, может этого слоника делала и не я. Слишком уж заметен брачок. Нижняя половина выпирает, верхнего края явно недостает, чтобы сделать все ровнехонько. Видимо, лепил кто-то из малышей. Кто же? Ося? Ему тогда было семь лет. Нервозный мальчик, не очень здоровый -нет, конечно, у него не хватало силенок слепить слона как следует. Или Таня? Ей "уже" пять. Крошечные тоненькие пальчики... Может быть, этого слоника лепила как раз она. Тогда - чему удивляться? А вдруг это делала даже Олечка, которой едва исполнилось три года? Нет. Она все-таки лишь играла "в работу".
Неаккуратный, плохо склеенный слоник.. На нижней кромке, которая торчит недоделанная, так явно виден навсегда засохший столярный клей! Я чуть-чуть прикрываю глаза, и в памяти мгновенно возникает картина. Она даже не перед глазами еще. Она сначала... в носу. Продирается к дню сегодняшнему одуряющим, едким, отвратительным запахом столярного клея. Мне иногда кажется, что задохнусь от него. Теперь мы так много знаем об аллергии, об идиосинкразии, о других несовместимостях и несоответствиях. Вполне возможно, что столярный клей вызывает у меня острую аллергическую реакцию - даже в тот, "до-аллергический" век. Потому что иначе я бы не задыхалась. Я бы спокойно работала. Клеила бы одного слона за другим. А мне плохо... И незаметно - только на секундочку! - выхожу из комнаты в кухню. Якобы попить. И в дверях бросаю щенячий взгляд на нашу "артель". Во главе стола мама. У нее всегда дел невпроворот. Но сейчас она, так сказать, мастер цеха. Хочет научить нас работать быстро и аккуратно. Иначе пропадем, погибнем. И вот мы сидим рядом с ней, мал мала меньше, и клеим, клеим, клеим этих проклятых слонов. И они так плохо поддаются нам! Никогда не склеиваются ровно. Буквально рассыпаются в руках. Расклеиваются, так и не соединившись половинками. И снова мажешь столяркой. И снова чуть не падаешь в обморок от этого ужасного запаха. И опять складываешь, склеиваешь... Три копейки за две штуки! В артели надомников маме говорили, что такого слоника склеить минуты две. То есть, двух склеишь за четыре. Сколько в часе раз по четыре минуты? Пятнадцать. Значит один работник за час может заработать... Три копейки умножить на пятнадцать … сорок пять копеек. А нас, работников, много. Конечно, мы в состоянии заработать себе на хлеб' И даже немного на масло! "Да сколько же у вас тонких детских ручек, точных пальчиков, сколько слоников вы налепите! Богачами станете!" - заверяли маму в артели надомников. Только вот не получается у нас по этому подсчету. Не две минуты клеится один слоник, а чуть ли не полчаса. Значит, заработок каждого - три копейки в час? Нас много. Перемножить три копейко/часа на нас, девятерых, десятерых, всех одиннадцать? Сколько получается? Дать бы посчитать Нариньяни! Господи, но и хлеба тоже надо не четверть буханочки!..
Я выстреливаю в коридор пристыженная! Нет, пить не хочу. Мне бы только глотнуть свежего воздуха. На минуту вывести из нутра этот дурман столярки. И вот уже возвращаюсь - почти бегу! - в комнату. И снова клею, клею, клею. . .И рада, что у нас все-таки получается!
Мама встает и идет на кухню. За "слоновым" столом теперь "мастер цеха" кто-нибудь из старших, иногда это я. Душа разрывается. Надо бы маме помочь - у нее там корыто белья, кастрюля супа... Миллион дел, и все на одни руки. Но и здесь надо клеить, клеить, клеить...
Новый 1954 год мы отмечали обычной своей тощей картошкой в мундире и чаем с сахаром вприкуску. Серебряные слоники на нашей елке не висели, ибо и елки-то не было. Зато они наверняка принесли много радости другим детям. А когда я сама стала матерью, и елки на Новый год мы ставили уже для моего сынишки, он почему-то особенно любил наших слоников и вечно просил повесить - тогда их оставалось несколько штук - на самое видное место, непременно рядом друг к другу. Конечно, мы, как уж сумели, рассказывали ему о том, что связано с этими слониками. И малыш, с каждым годом подраставший и, видимо, проникавшийся глубочайшей драмой жизни своей матери и всех ее родных, перенимал от нас эстафету. Интересная деталь: он всегда вешал серебряных слоников впереди, на самом заметном месте. Неужели они ему так нравились? Позже, уже взрослым, он объяснял. "Слоники вызывали у меня щемящее чувство. Очень было жаль их. Я боялся их обидеть, как людей". Серебряный слоник, таким образом, стал живой ниточкой связи между разными в историческом смысле временами.
Потом слоники сменились другими заработками, в которых тоже участвовала вся семья. В общем-то, мы выцарапали себя. Может быть, вте дни, как ни в какие другие крепла наша душа. Мы учились не поддаваться страху и отчаянию. Но какие это были тяжелые времена! Почти невыносимые!
Лишь весной 1955 года папе позвонили из Союза писателей. Сказали: сожалеют о том, что он попал в переделку истории. Предложили командировку, работу. Он вошел в эту новую жизнь моментально. И счастлив был безмерно. О нас что и говорить! Старшая сестра, брат и я уже работали, приносили в дом "живую копеечку". Но самым главным для нас стало возвращение папы в строй.
Наверное, в 1956 году, точно я не помню, журнал "Новый мир" на крохотном кусочке своей "площади" дал реабилитацию нашему отцу и тем, кто вместе с ним попал под палаческий меч Нариньяни, сообщив, что факты, изложенные в фельетоне "За спиной у ведущих", опубликованном в газете "Правда" 11 января 1953 г., не подтвердились. Хотелось более яркого оправдания, душевной компенсации за все пережитое. Но, как говорится, и на этом спасибо.
Обычная картинка тех дней: на пианино, на комоде, где-нибудь еще стоят белые костяные слонишки. Их много, разновеликих и разновысоких, от большого, величиной с кулак взрослого человека, и до крохотного, с булавочную головку. Тех слоников делали из настоящей слоновой кости, безделушка была очень дорогой. Выстраивали их на пианино или буфете по росту: впереди самый большой, а за ним, в ровном строю, меньше и меньше. Слоники шли, уткнувшись себе под нос, под хобот. Неторопливо, с достоинством переступали по земле. Чувствовалось: выполняют какую-то очень важную миссию. И черная крышка пианино или темная полочка комода казалась вязкой чернотой африканской ночи. Слоны всю ночь куда-то вышагивают. И постепенно выходят из ночи в рассвет. Почему они такие белые? Это их осветили первые лучи восходящего солнца.
Я тогда "не знала, что слон - символ счастья. Вероятно, их для того и ставили на пианино, чтобы несли в дом благополучие. Их движение завораживало, от счастья не хотелось отрываться.
Конечно, подобные слоники "жили" в приличных, состоятельных домах, где осенью алели на столе арбузы и янтарем наливались зрелые дыни. Где гостю подавали вазочку конфет к чаю и красивый торт. Где летом или в бархатный сезон хозяева ездили на курорты, а потом восторженно о них рассказывали.
Наши слоники были картонными, но и они принесли в дом счастье: в те страшные годы мы все-таки выжили.»